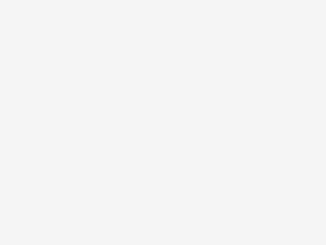Беседовала Анна Кислицына
Главный геотехник Олимпиадинского ГОКа Константин Гребенюк прошёл путь от студента-практиканта и горнорабочего до руководителя одного из ключевых направлений предприятия. За 14 лет работы он успел увидеть, как меняется отрасль, какие новые технологии приходят в «Полюс», и почему даже самая современная техника не заменит внимательность и опыт человека. В этом интервью Константин рассказывает о профессии, в которой на первом месте всегда остаётся безопасность, сплочённой команде, семейных ценностях и том, как важно делиться знаниями с будущими поколениями горняков.

— Меня зовут Константин Александрович Гребенюк. Я работаю главным геотехником «Полюс Красноярска». В должности нахожусь уже почти два года. До этого был начальником участка оборки уступов управления горного производства участка. А начинал как горный мастер.
— Как вы попали в компанию «Полюс»?
— В «Полюс» я попал, ещё будучи студентом. Это был 2007 год. Я приехал на производственную практику и был устроен на должность горнорабочего, на участок буровзрывных работ (БВР), где проходила вся моя производственная практика. И сразу влюбился, зацепила меня эта работа и в целом месторождение. В то время компания «Полюс» была на слуху, и все мечтали туда попасть, даже студенты проходили отбор. И в 2007 году мы приехали на месторождение на практику, так и началось знакомство. А второй раз я приехал на практику в 2008 году и уже чётко для себя решил, что всю дальнейшую свою жизнь и трудовую деятельность буду связывать именно с этой компанией. И на сегодняшний момент вот уже 14 лет работаю в ней.

— А как вы от буровзрывных работ перешли к работе геотехником?
— По окончании обучения была служба в армии, чем очень горжусь, так как довелось служить в воздушно-десантных войсках. После демобилизации практически сразу подал резюме в нашу компанию, и через несколько дней мне пришёл вызов на работу в службу охраны труда и промышленной безопасности инженером по охране труда, так как срочно требовались специалисты. Поработал в службе ОТ и ПБ, и руководство рудоуправления предложило мне перейти к ним в подразделение. Так начался новый этап в моей жизни — горным мастером карьера Восточный. С геотехникой я начал знакомиться в 2016 году, когда было принято решение о необходимости создания службы по наблюдению, предупреждению деформационных процессов в карьере и управлению ими. В итоге появились три подразделения: отдел геотехнического мониторинга, участок оборки уступов и отдел гидрогеологии. После их создания я был переведён начальником участка оборки уступов. Участок был укомплектован новеньким специализированным экскаватором со сверхдлинной стрелой (произведённым компанией LIEBHERR). Это был второй такой экскаватор в России. А именно такой модификации — четвёртый во всём мире. То есть мы, можно сказать, были первопроходцами в эксплуатации данного оборудования. И постепенно, постепенно мы всему учились на собственном опыте. Поэтому работа по оборке уступов очень тесно связана с геомеханикой, ведь необходимо понимать и изучать физико-механические свойства горных пород и их напряжённо-деформированное состояние, разрушение, происходящее под влиянием природных и технологических факторов.
Одним из основных моментов стала организация взаимодействия с отделами геотехнического мониторинга, гидрогеологии и всеми основными службами карьера. Нужно было всё вписать в технологический процесс, без потерь производительности для карьеров. И вот в 2023 году операционный директор Леонид Фёдорович Скорик предложил возглавить отдел главного геотехника — снова новый вызов! Так и началась следующая глава — уже в должности главного геотехника. Геомеханика как наука — очень сложная сама по себе и до конца не изучена, она включает в себя очень большой объём факторов, оказывающих негативное воздействие на устойчивость горных пород.

— Вы говорили, что на работу карьера влияют много факторов. Расскажите подробнее о них.
— Сначала геология: мы знакомимся с залеганием рудного тела, как будет происходить отработка, выявляем потенциально опасные зоны. У нас даже есть карта возможных рисков и деформационных процессов, которые мы отрабатываем совместно с отделом горного планирования. Мы смотрим, как правильно запланировать работы. С начальником управления горного производства решаем, как лучше отработать в определённой зоне, чтобы минимизировать риски. Следим за влиянием подземных вод: как снизить их давление, которое скопилось внутри горного массива, где бурить скважины водопонижения, где — горизонтальные дренажные скважины, чтобы разгрузить массив. И занимаемся детальным изучением тектонических разломов, которые проходят через весь наш горный массив. Каждый по-своему может меняться с продвижением горных работ на каждой очереди. В распоряжении нашего подразделения есть 13 инферометрических георадаров. Это официальный рекорд, зафиксированный в «Книге рекордов России». Данное оборудование предназначено для проведения комплекса работ по выявлению опасных зон и прогнозирования опасных ситуаций. На основании полученных данных принимается решение о выводе людей и оборудования из потенциально опасной зоны или полной остановке работ. Наш отдел занимается не только мониторингом, но и изучением горного массива, составлением прогноза потенциально опасных зон, расчётом устойчивости определённых участков уступов и бортов карьера, на основании которого производится планирование горных работ как оперативное, так и среднесрочное.

— Почему вы это направление выбрали?
— Оно как-то было ближе из-за того, что я возглавлял участок оборки уступов. И моя работа была связана с отделом главного геотехника. Ещё до перехода в этот отдел проводил ряд мероприятий по укреплению откосов уступов, участвовал в установке пассивной противокамнепадной защиты, вёл работу с промышленными альпинистами. И переход стал логичным продолжением того, чем я занимался. Но не всё было так просто. Основное направление — это безопасность горных работ и ответственность за всех работников, занятых в технологическом процессе, именно мы занимаемся безопасностью 24/7.
— С какой техникой вам приходится работать?
— Радары, георадары — южноафриканские, австралийские, итальянские, китайские. У каждого георадара своё назначение: есть для долгосрочного мониторинга, а есть — для краткосрочного. Это зависит от их скорости сканирования. Радары долгосрочного мониторинга сканируют с интервалом от 20 до 40 минут. После чего мы получаем данные и обрабатываем их. А есть радары для краткосрочного мониторинга, работающие с интервалом от 2 до 4 минут. То есть практически моментально мы получаем информацию.

Проводим визуальные осмотры с помощью БПЛА: несколько раз в неделю мы делаем облёт полностью всего карьера, сопоставляем съёмки «до» и «после». Данные съёмки помогают отстраивать 3D-модели для трёхмерного численного анализа устойчивости.
— Почему такая умная техника не может работать без людей?
— Георадар настроен так, что показывает сдвижение вообще всего происходящего в карьере. Он улавливает, например, даже малейшие движения горного массива, вызванные природными факторами (осадками). Человек нужен именно для того, чтобы отфильтровывать полученные данные и их заверить. Сопоставлять полученную информацию с георадара и камеры видеонаблюдения. И уже принимать решение о том, что действительно мы видим и что происходит. Работа на самом деле очень ответственная.
— Есть ли в вашем подразделении время на повышение квалификации и обучение?
— Да, у нас есть чем гордиться. Наши ребята прошли обучение у одного из лучших, можно сказать, геомехаников мира, который входит в топ-10 по миру.
Обучались работе с программным обеспечением для прогнозирования и расчёта потенциально опасных участков при разработке карьера. Сейчас мы начали применять полученные знания на практике. Благодаря полученным навыкам мы можем делать прогнозы более эффективно и с более высокой вероятностью.
— А откуда тогда берутся специалисты-профессионалы, о которых вы говорите?
— У нас в целом весь отдел представлен работниками из абсолютно разных направлений горного производства: маркшейдерами, технологами горного производства, геологами и гидрогеологами.
Каждый до прихода к нам в отдел уже работал по своему направлению и понимает технологию ведения горных работ. И студентов сегодня мы берём постоянно на практику. Ежегодно по 1–2 человека приходят в отдел, и мы обучаем геотехнике, показываем, насколько важна наша работа на объектах ведения горных работ. Чтобы подготовить одного специалиста, необходимо обучение в течение 7–8 месяцев, после чего мы его пробуем в самостоятельной работе. Мониторинг ведётся постоянно, в основном двумя работниками, так как у нас два очень больших карьера — Восточный и Благодатный.
— Сколько у вас в команде человек?
— Штат у нас вместе со мной 23 специалиста: это полный штат, который с учётом вахты меняется. Туда входят гидрогеологи, структурные геологи и геомеханики.
— Есть ли вообще жизнь на вахте?
— Да, конечно же. За время работы на вахте познакомился с новыми людьми из разных сфер. На сегодняшний момент с некоторыми общаемся очень близко, даже семьями, с некоторыми даже породнились. На мероприятия ходим вместе, можем вместе выйти на шашлыки, что-то обсудить и после работы просто поговорить о жизни. В принципе, я сильной разницы не вижу между жизнью на вахте и в городе.
— Как вы отдыхаете на вахте после работы?
— Можно почитать книгу, немного переключиться. Здесь это очень важно. Надо стараться сменить обстановку хоть на час-два. В общем, в основном это чтение и общение с семьей.
— Расскажите про вашу семью. Вы же встретили свою жену на вахте?
— Да, да. Моя будущая супруга устроилась в компанию в 2015 году. И я её случайно увидел во время обеденного перерыва. Сразу понравилась. Хотел познакомиться, но, честно сказать, боялся. И это, наверное, судьба была. Так как следующие два года мы сталкивались друг с другом: где-то в автобусе сидели рядом, в столовой в очереди стояли рядом. Затем она в составе комиссии приехала проверять карьер Восточный. Я в тот момент работал горным мастером. И в ходе проверки слово за слово познакомились ближе, и началось у нас более тесное общение. Вот как-то всё закрутилось: поженились, родился сын. Всё прекрасно. И мы уже пять лет вместе. Жена, кстати, работает экологом. Но уже не на вахте.
Поначалу было сложно, когда её перевели в город, а я остался на вахте. А сейчас освоились. Да и она в силу своего опыта работы прекрасно меня понимает. Сама когда-то так работала и это прошла.
— Ваш коллектив можно назвать второй семьёй, если вы так много времени проводите вместе?
— Ой, коллектив у нас дружный. Конечно, бывают споры, как и в любой семье. Но я бы не сказал, что это недопонимание. Всё решается нормально и в рабочем порядке. Праздники мы отмечаем вместе. Своим «узким семейным кругом». Собрались, приготовили, поужинали, посидели и поболтали. В компьютерные игры вечерами играем. Я бы сказал, что никто не тянет одеяло на себя. Я всячески поддерживаю своих коллег. Под каждого человека, я считаю, можно подстраиваться индивидуально. Всех стараюсь понять и принять. Поэтому и коллектив очень дружный. Каждый друг другу помогает. Особенно когда у нас приходят новенькие. Мы их не бросаем, а максимально помогаем, ребята стараются вложить знания в новых работников. Мы также обмениваемся опытом и с коллегами из других предприятий компании, например, на Школе начальника участка. Также благодаря модульной программе «Полюса» мы можем помогать друг другу и обмениваться важной информацией, подсказывать что-то коллегам или они нам.
— Вы уже 14 лет занимаетесь горным делом. Если бы у вас была возможность на один день погрузиться в другую деятельность, какую профессию бы выбрали?
— В целом, на горное дело я случайно попал. Когда подавал документы в институт, то подавал на электроснабжение. Я должен был быть энергетиком в четвертом поколении. Но ехал мимо университета цветных металлов и золота, решил заехать. Увидел там специальности, которые даже не понимал. Потому что там, откуда я родом, не было горного производства. Ни карьеров, ни разрезов, ничего не было. И подал документы, хотя и поступил уже на электроснабжение в политехнический университет. Но почему-то, я не знаю, что-то щёлкнуло во мне. Мол, надо идти на горное. До сих пор не могу это объяснить. Попробовал бы в энергетике себя: я всё равно постоянно в своей повседневной работе сталкиваюсь с энергетикой…
— У вас есть какое-то хобби?
— Да, рыбалка. Люблю это дело. С коллегами после вахты приезжаем и ездим на Енисей, Бирюсу, Агул, много куда ещё. Вот так сложилось.
— Кстати, Константин Александрович, вы же имеете прямое отношение к изданию книг. Расскажите, пожалуйста, об этом подробнее.
— На сегодняшний момент мы уже выпустили две книги. Самая новая и вторая — по безопасному производству работ на глубоких и сверхглубоких карьерах, её издали в 2025 году. А первая — «Методические рекомендации по оборке уступов» — издана в 2022 году, то есть три года мы собирали материал и писали новую книгу. Первая книга доступна для всех. Она есть в библиотеке «Полюса», а ещё в библиотеках Красноярска и Новосибирска. А вторую, более новую книгу мы только готовим к публикации на доступных ресурсах.
Сама идея по созданию книг возникла у нас с операционным директором Леонидом Фёдоровичем Скориком — хотелось поделиться полученными уникальными знаниями с коллегами из других бизнес-единиц, вновь принимаемыми сотрудниками и студентами. Много новой техники, новых способов. И хотелось, чтобы уже студенты, приходя на работу, были более-менее подготовлены. Некоторым студентам эта книга уже помогла защитить диплом. Все методы мы пытались изложить самым простым языком, который был бы понятен всем абсолютно. Даже тем, кто не задействован в горном деле. А так писать — это очень сложно, как оказывается.
История Константина Гребенюка — это пример того, как преданность делу, готовность учиться новому и умение работать в команде помогают расти вместе с компанией. Его слова о безопасности, ответственности и поддержке коллег звучат особенно весомо, ведь за ними — годы опыта и реальные судьбы людей. И, как признаётся сам герой, главная ценность профессии геотехника — не только в управлении рисками, но и в безопасности каждого сотрудника.